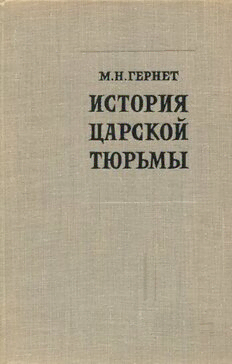
История царской тюрьмы. Т. 2. (1825 - 1870). Уникальное издание PDF
Preview История царской тюрьмы. Т. 2. (1825 - 1870). Уникальное издание
М.Н. ГЕРНЕТ ИСТОРИЯ ЦАРСКОЙ ТЮРЬМЫ 3 п я т л г ^ т о м а х ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ М ОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ. ЛИТЕРАТУРЫ М.Н. ГЕРНЕТ ИСТОРИЯ ЦАРСКОЙ ТЮРЬМЫ ^ Ц о ж 'g j j w j p o i f 1825-1870 00007107 ju от rj 4 m«r я п Г7-, *”я '=) й" . М Й А& b j ii ip-з -1 • РЭ КЗ - -г'-ч -..у'. *, f-i* ^ w ~\i .-4> 19 6 1 г о с у д а р с т в е н н о е и з д а т е л ь с т в о ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МосУ МВД России ОБЩАЯ БИБЛИОТЕКА АУЧНЫЙ ФОНД 0 0 0 0 ^ 1 0 1 Предисловие автора ко 2-му изданию Пер ес м о т рен н ы й второй том «Истории царской тюрьмы» дополнен мною для второго издания на основе изучения архивных материалов и ознакомления с новой литературой, опубликованной за последние четыре года. Из архивных материалов, дополнительно использованных для второго тома, наибольшее значение имеют дела Центрального Государственного исторического архива (ЦГИА) в Москве по фонду особого присутствия правительствующего Сената (ОППС) об узниках Петропавловской крепости — писателях ре волюционных демократах М. Налбандяне, М. Михайлове и Н. Чернышевском. В частности, я остановился подробнее на почти не освещен ном в нашей литературе эпизоде, относящемся ко времени пре бывания Чернышевского в Алексеевском равелине, а именно на его голодовке там. Подлинное сенатское производство дела Чернышевского позволило мне выявить исполненное замечательного мужества поведение обвиняемого перед судьями и возмутительное при страстие к нему высшего судилища в угоду реакции. Мне ка жется, что большой интерес представляют строки из письма Чернышевского к жене, посланного ей в Саратов из равелина и непропущенного. Выдержкой из этого письма я заканчиваю свой очерк о Чернышевском и таким образом довожу до све дения советских читателей то, что хотела сохранить в тайне от народа царская администрация. Вновь найденные в Ленинградском Центральном Государ ственном военно-историческом архиве дела Шлиссельбургской крепости за первую половину XIX века позволили внести некоторые пополнения в очерк по истории этой крепости и, в частности, узнать о заключении в крепость грузинского уаревича Окропира и о судьбе изобретателя подводной лодки Черновского. 6 ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО 2-му ИЗДАНИЮ Глава об узниках Шлиссельбургской крепости пополнена новым параграфом о пребывании в этой крепости и в Алексеев- ском равелине Михаила Бакунина. В добавление к прежним иллюстрациям я воспроизвожу в этом издании снимок с картины художника Ю. М. Козмичева «Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского». Картина написана им на основе изучения секретных архивных документов III от* деления о казни Чернышевского. А в т о р Предисловие автора к 1-му изданию В ТОРОЙ том нашей книги посвящен истории царской тюрьмы в период 1825— 1870 гг. Вся уголовная поли тика царизма и его тюремная политика, в частности, определялись в это время разложением старого фео дально-крепостнического строя под влиянием развития новых, капиталистических отношений. Борьба нового со старым происходила по всему фронту. Но всего сильнее шла она вокруг крепостного права: среди оборо нявшихся были только дворяне, среди наступавших — вся мно гомиллионная крестьянская масса и немногие передовые люди из дворян. Мы начинаем этот второй том со времени восстания 14 де кабря 1825 г.— с тех, кого Ленин назвал наряду с Герценом «самыми выдающимися деятелями дворянского периода» исто рии русской революции, и доводим изложение до 70-х годов. Таким образом, том охватывает и начало «разночинского» пе риода революционного движения. После крестьянской реформы 1861 года в России стал бы стро развиваться капитализм как общественно-экономическая формация; с последующих десятилетий на смену революционе- рам-разночинцам в царской тюрьме и ссылке начинают появ ляться первые борцы за пролетарскую революцию. История тюрьмы этих десятилетий составит содержание следующего, третьего тома книги. Против крепостного права и уродливого разрешения во проса об его отмене актом 19 февраля 1861 г. одни поднимали свой голос, другие — оружие. Декабристы из «Общества соеди ненных славян» записали в своем уставе: «Не желай иметь раба, когда сам быть рабом не хочешь». Еще сильнее говорили против крепостного права на своих собраниях в 1845—1849 гг. члены кружка, сформировавшегося вокруг М. В. Буташевич-Петрашев- ского из числа небогатых дворян и разночинцев, вписавших после 8 ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К 1-му ИЗДАНИЮ декабристов новые страницы в историю царской тюрьмы. Сле дующие страницы в ее истории принадлежат узникам Петропав ловской крепости из числа писателей — революционных демо кратов — Н. Г. Чернышевскому, Д. И. Писареву, Н. В. Шел- гунову и др. Кроме легальной печати, эти писатели использовали в своей политической борьбе против царизма так же и подпольный типографский станок. В ту же эпоху 60-х годов одиночные камеры Петропавлов ской крепости были заполнены теми, кто так или иначе были связаны своей революционной деятельностью с Герценом и Огаревым и были заняты распространением в России зарубеж ных изданий этих борцов против царского самодержавия и кре- 1-остного права. Конечно, борцов против крепостного права и узников раз личных тюрем давало в большом числе и само крестьянство. В 30-х годах X IX века казематы куртин и бастионов Петропав ловской крепости впервые за время ее существования приняли в свои стены участников первой организации из рабочих-кре- стьян пермского завода, ставившей себе целью борьбу за унич тожение крепостного права. В 1831 году вся центральная и местная администрация в ряде губерний была поставлена на ноги для розыска авторов большого числа разнообразных прокламаций-листовок против крепостного права, упорно разбрасываемых по разным местам Владимирской губернии. Жандармские налеты, многочисленные аресты крепостных и дворовых людей, выделявшихся из кре стьянской массы по уровню развития и по образованию, не остановили этой пропаганды против крепостного права и само державия. В то 'время как арестованные по этим делам попали в число узников Петропавловской крепости, общеуголовные тюрьмы Новгородской губернии в том же 1831 году заполнились вос ставшими военными поселянами. Позднее, вплоть до конца ин тересующего нас периода, такие же тюрьмы заполнялись уча стниками крестьянских восстаний в целом ряде других губер ний. Мы встретимся с ними в последней главе об общеуголовных тюрьмах. Отсутствие фактического материала о царских тюрьмах не позволило нам выявить условия пребывания в различных тюрь мах участников этих массовых крестьянских выступлений с той подробностью, которой они заслуживают. В рапортах и донесе ниях разных чиновников не обращалось на это никакого внима ния, в них большей частью описывались подробности проис шедших волнений и восстаний. Значительная часть участников ПРЕЛИСЛОВИЕ АВТОРА К 1-му ИЗДАНИЮ 9 крестьянских восстаний подвергалась различным видам телес ных наказаний. Эти последние занимали в уголовной политике царизма николаевской эпохи самое выдающееся место. В бо\ее важных с точки зрения правящего класса случаях такие телесные наказания нередко являлись мучительным видом смертной казни. Для феодально-крепостнической эпохи характерны не толь ко государственные, но и помещичьи тюрьмы В 1846 году 21 января, т. е. всего за 15 лет до отмены кре постного права, закон подтверждал власть помещика без суда, по собственному его усмотрению ссылать своих крепостных в Сибирь на поселение, бить их палками и розгами и сажать в свои, помещичьи «сельские тюрьмы». Правда, закон определял высший срок такого заключения в тюрьму в два месяца и уста навливал, что лишение свободы должно происходить по общим правилам, предписанным для тюрьмы (ст. 1860 Уложения о на казаниях 1846 года). Но эти оговорки оставались, конечно, пустым звуком при фактической неограниченности власти помещиков. В 80-х годах прошлого века писатель Короленко вспоминал об одной такой помещичьей тюрьме. На берегу Волги между Нижнем и Васильсурском было имение Шереметева — Юрино. Его называли «шереметьевской Сибирью». «Прежде здесь было нечто вроде феодального замка, впоследствии сгоревшего,— пи сал Короленко.— Над этим пепелищем носятся до сих пор мрач ные рассказы о казематах и даже подземельях, в которых томились шереметьевские ослушники. Полиция едва смела пока зываться в шереметьевских владениях, и никто не смел вмеши ваться в отношения Шереметева к его рабам» 2. Октябрьская социалистическая революция, сделавшая до ступными для историков бывшие царские архивы, раскрыла перед нами и тайны помещичьих тюрем. Не строя специальных тюрем, помещики превращали в них свои подвалы, погреба, амбары и сараи. В поисках отягощения условий заключения они сажали ма лолетних крепостных в чуланы, конуры и даже в печь. Обыч ное в правительственных тюрьмах заковывание узников в кан далы применялось помещиками в совершенно неограниченных размерах и притом в еще более жестоких изобретенных ими 1 Об уложениях помещиков для их крепостных крестьян см. М. Н. Г е р н е т, История царской тюрьмы, т. I, § 2. 2 В. Г. Короленко, Полное собрание сочинений, т. IX, СПб., 1914, стр. 151. 10 ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К 1-му ИЗДАНИЮ формах. Крепостных приковывали к устроенным для этого стол бам, бревнам, к стенам сараев, к жерновам. Когда в процессе архивной работы нам попадался случай особенно возмутительной расправы помещика с крепостными, то казалось, что перед нами предел человеческой жестокости, дальше которого идти уже некуда. Но работа продолжалась, и новые случаи далеко оставляли за собою прежние, снова и снова побивая рекорд бесчеловечности. Часто встречались дела, когда жертвами расправы были девочки-подростки и маленькие дети. 25 декабря 1836 г. в г. Александровске Екатеринославской губернии умерла 11-лет няя девочка Лисоконенкова. За год перед тем она вместе с братом, матерью и отцом была куплена у одного помещика неким Кривозубовым. Бу дучи начальником инвалидной команды, этот Кривозубов мог распоряжаться тюрьмой и гауптвахтой. Без законных основа ний он посадил купленного им крепостного отца девочки в тюрьму, предварительно в целях глумления обрив ему голову. Жена крепостного, перенесши жестокое телесное наказание, скрылась неизвестно куда. Но главной жертвой истязателей Кривозубовых сделалась девочка Мария Лисоконенкова. Для нее были изготовлены спе циальные кандалы, натиравшие ей ноги в кровь. Закованную в кандалы, ее периодически сажали на гауптвахту и бросали в погреба при доме Кривозубовых. Закованный ребенок попа дал в темную холодную подземную тюрьму, отмененную законом даже для взрослых. Девочку наказывали розгами до потери сознания, предварительно распяв ее. В заточении ее мучили голодом. Она пыталась утопиться, но была поймана. В декабре того же года девочка, страдавшая от голода, пошла просить милостыню и отморозила себе руки и ноги. Несмотря на это, Кривозубова, хозяйка, избила ее пал кой и плетью, привязав к перекладине и предварительно раздев донага. На другой день она снова била ее, на этот раз по голове. В результате на следующий день девочка умерла *. В другом случае закованным в кандалы узником помещика оказался мальчик 12 лет. Вместе с отцом и матерью он был за продан одним помещиком другому (1850 г.). Отец его бежал, но потом тайно вернулся и доставил своего сына в волостную 1 ЦГИА в Москве. Всеподданнейшие доклады III отделения собствен ной е. и. в. канцелярии, 4 эксп., 1837, № 250.
